

«Речевую деятельность вы на белой крысе, а уж тем более на червяке не поймаете»
— В эфире самый правдивый подкаст о медицине «Баден-Баден», и я его ведущий Константин Северинов. Сегодня мы будем говорить с Вячеславом Дубыниным о мозге и проблемах нейрофизиологии. Вы же все знаете о мозге?
— Хм, о мозге, конечно, никто всего не знает, но стараемся. На самом деле мозг – это же разные уровни: молекулярный, клеточный, структурный уровень – системных процессов вроде памяти или эмоций. На каждом уровне мы знаем 20-40%, примерно так.
— Но ведь большинству людей интересно, как мозг работает, то есть его конечный выхлоп, скажем так. Как мы думаем?
— Думаем-то мы в основном словами – для простоты, если так. Хотя, конечно, образное мышление тоже существует. А словами – это то, что еще Павлов – Павлов! – в свое время назвал «вторая сигнальная система». И словами мы обозначаем какие-то реальные события. Иногда слова что-то обобщают. В итоге человек по ходу жизни копит там, в нейросетях, словарный запас. Судя по всему, основная зона, где все это копится, – это так называемая теменно-височно-затылочная область. Там слов все больше и больше, и мы ими начинаем думать.
— Можно я?.. Потому что я чувствую, что вы прямо по накатанной идете. А когда мы копим слова... Начнем с того, что вроде с возрастом скорее все наоборот происходит – мы не столько копим, сколько теряем. У нас в голове есть места для каждого слова, это словарь, и мы оттуда вынимаем эти слова? И что является материальным носителем?
— Место, конечно, должно быть. Но это место не молекула и даже не клетка, а некий фрагмент нейросети. То есть какие-то нейроны, которые, например, связаны с разными сенсорными центрами, и в них собираются какие-то признаки... ну не знаю, апельсина, например. Апельсин – мы знаем, как он...
— Ментальная картинка апельсина.
— Не только картинка: апельсин – это и зрительный образ, и вкусовой, и осязательный, и еще слово «апельсин», да еще на нескольких языках. Подобного рода сборка (как говорят те, кто этим занимается, мультисенсорная интеграция) – это основа наших речевых центров.
— Если у вас есть образ апельсина и у меня есть его образ, они находятся в одном месте нашего мозга? Ведь когда мы родились, никакого апельсина ни у вас, ни у меня не было. У нас был пустой мозг, да?
— Ну, по крайней мере, пустая кора больших полушарий, новая кора. Там действительно нейросети, которые готовы учиться. Ну и дальше, судя по всему, у каждого человека одно и то же слово пишется в разных местах. Примерно так же, как на винчестере компьютера. У вас один и тот же файл для разных компьютеров будет писаться на разных местах диска, потому что было свободное место, были какие-то дополнительные предпосылки. Поэтому так сложно это поймать в ходе экспериментов. Вообще, когда мы про науку-то говорим, всегда возникает вопрос, как это можно посмотреть.
— Ну да, я с этой точки зрения к этому подхожу – как молекулярный биолог.
— У нас есть человек... Потому что речевую деятельность вы на белой крысе, а уж тем более на червяке ценорабдитесе не поймаете. А это значит, у нас есть томограмма фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томограмма). Есть у нас электроэнцефалограмма. И очень редкие истории, когда удается прямо с микроэлектродом попасть в человеческий мозг – естественно, в ходе нейрохирургических операций. И в этих ситуациях мы что-то можем увидеть. В частности, если человек концентрируется на каком-то слове, на какой-то ассоциации, можно увидеть активацию локальных зон. Но это прямо редкое-редкое удовольствие.
— И вы видите, что у разных людей это разное, да?
— У разных людей получается по-разному, да.
— Но ведь мы же говорим об одной и той же вещи, то есть ментальный образ в голове должен быть один и тот же. Значит ли это, что морфологическая структура (набор нейронов, которые касаются друг друга каким-то образом) одинаковая?
— Конкретная морфология, конкретные координаты в мозге, скорее всего, разные у разных людей. Но связи, информационные каналы должны быть одни и те же.
— Потому что мы видим одно и то же.
— Да. Хотя тот же самый апельсин, я думаю, в представлении человека, живущего на юге, и в представлении человека, живущего в Мурманске, – это будет разный образ, потому что наверняка у человека, который видел, как это все растет, к слову «апельсин» добавляется еще...
— ...запах рощи с апельсинами.
— Да, точно, образ цветущих деревьев, запахи эти. А в Мурманске вам добавится только ящик с Чебурашкой.
— Но зато треска есть. А как мы это помним тогда? Это же лежит там потом, и лежит до востребования. Когда в Мурманск завозят апельсины, вдруг я вспоминаю об их существовании и вспоминаю, что меня когда-то возили, например, в Сухуми, или я был на Средиземном море и там видел, как эти апельсины растут.
— Получается, что, как только мы вбрасываем туда какую-то дополнительную активацию за счет, например, тех же самых сенсорных входов, то вся система способна возбудиться. Скажем, вам показывают оранжевый мячик, и вы говорите: «О! Похоже на апельсин».

«У вас там внутри уже модель мира, вы туда вносите какие-то исходные данные, эта штука считает: делай вот так – будет хорошо, так не делай – будет плохо»
— А у поэтов тогда другие мозги? Это ведь ассоциации. Ведь вы говорите про то, как одно тянет за собой другое. Одна система, что бы это ни значило, или программа, почему-то подтягивает какие-то новые вещи.
— У поэтов, да и у нас тоже, каждое слово ассоциировано еще и с другими словами. И мы начинаем в какой-то момент... Ну, возрастные психологи говорят, года в три у ребенка уже столько слов в голове, что можно начинать гонять возбуждение по неким контурам, и это основа мышления. И, собственно, изобрести какую-то красивую фразу, да еще рифмованную, значит найти правильную траекторию в этом комплексе речевых центров. То есть то, что Павлов называл «вторая сигнальная система», – это оно. И мы действительно видим на искусственных нейросетках – GPT-чате, например, – что они набирают примерно так же свой словарный запас и дальше могут вытаскивать ассоциации, и иногда довольно забавные.
— А я же могу придумать новое слово, которого вообще не было. Я могу придумать... Ну, не я, но люди, фантасты могут придумать миры, и они вполне себе реальные.
— Да, это потрясающая способность нашего мозга создать внутри себя какое-то новое обобщение. А как правило, новые слова – это дополнительное обобщение, по крайней мере значимые слова. Хотя, конечно, вы можете просто увидеть неизвестное животное и дать ему название вроде «кенгуру» или еще что-то в этом роде.
— «Куздра», «глокая куздра».
— Да, например.
— Вот оно.
— Но особо ценятся обобщающие слова, которые собирают несколько конкретных слов вместе. Ну и, кстати, в поэзии как раз... Чем задевает множество людей порой одно и то же стихотворение? Поэт использует очень обобщающие термины, и в итоге каждый, читает четверостишие...
— ...как хочет, потому что обобщающий термин значит все и ничего.
— Да. И там: «Ночь, улица, фонарь, аптека», – и вы уже погружаетесь: кто-то в Питер, кто-то в восприятие аллергии, ну и так далее.
— И фактически речь идет о том, что этот текст вызывает у вас, у меня, у зрителя какие-то... Там начинает что-то бегать, так вы это видите. По рельсам фактически ток идет, как в электросхеме.
— Да, да.
— И лампочки горят. И возникают эмоции.
— И это расползается на весь мозг и обязательно цепляет центры эмоций. Потому что у вас начинают вылезать блоки памяти, сформировавшиеся в какой-то ситуации. А ситуация, как правило, означает либо поток негативных эмоций, либо поток позитивных эмоций. И все это, вся эта система начинает жить, вибрировать.
— Вы фактически говорите, что мозг работает, потому что он так работает. Вы в некотором смысле... Это сейчас идет описательная деятельность. Вы описываете, что... Мы знаем, что мозг работает, знаем, что мы можем представить апельсин, мы можем выучить несколько языков, и потом мы просто говорим, что это так устроено, потому что в мозгу есть соответствующие программки, они бегают, то есть наш мозг для этого фактически и сделан.
— Действительно, одна из важнейших задач мозга, сложного мозга, – по ходу жизни создать, сформировать внутри слепок окружающей действительности. И это, конечно, в ходе эволюции возникает не для того, чтобы стихи писать, а для того, чтобы моделировать ситуации и выбирать наиболее подходящее поведение. Поскольку у вас там, внутри, уже модель мира, вы туда вносите какие-то исходные данные, эта штука считает: делай вот так – будет хорошо, так не делай – будет плохо. Получается, что эта система работает как прогностический аппарат.
— А как эта штука может считать? Считать в условиях саванны, когда мы как вид развивались, плохое решение – это тебя съедят, а хорошее решение – это ты поешь и тебя не съедят.
— Ну, это такие длинные решения. Самый простой вариант: я сейчас наступаю на эту штуку или не наступаю, это корень или хвост змеи? На самом деле, когда эта модель уже сформирована и эти связи сформированы, скорость обработки информации – десятые доли секунды. И в простых ситуациях система выдает прогноз и направляет наше поведение очень быстро. Это можно посмотреть с помощью методики так называемых вызванных потенциалов. Там действительно 0,1-0,2 секунды, и уже штука считает. Мы это еще называем интуицией. А в сложных ситуациях реально надо сесть и подумать.

«Мы смотрим на очень незатейливых червей и мы видим: нейроны уже есть, нейросети есть, работают похожие механизмы»
— А у вас это в голове все выстроено? В вашем внутреннем мозгу есть картина того, что вы рассказываете, она у вас непротиворечивая, и вы понимаете, почему вы думаете и как? Все эти уровни - они же все равно имеют какую-то материальную основу? Там есть клетки, сообщество клеток, контакты между клетками. В клетках есть какие-то молекулы – вот то, в чем я понимаю. Все это как-то живет, работает, питается. И за этими словами – «программа», «система», «нейросеть», «уровни» – вы понимаете, как слагается мысль?
— Ну, хотелось бы, да. До какого-то уровня конкретизации и вообще попадания в объект.
— Это ведь очень общие такие слова, так ведь?
— Константин, смотрите, у нас есть молекулярный уровень, гены. Дальше работа внутриклеточная, белки... Собралась сама по себе клетка. У нас в нейробиологии, в нейрофизиологии, очень серьезно сейчас работают с генами, и что-то там активировать, выключить, добавить метилирование, ацетилирование, – все это активно изучается. Потому что это не только текущие какие-то реакции, но это, например, долговременное программирование мозга на стресс, на... не знаю, способность размножаться, способность учиться, на продолжительность жизни.
— Способность размножаться не мозгу, а клеткам мозга для того, чтобы как-то купировать проблемы с дегенерацией? Или что вы имеете в виду под способностью размножаться?
— Это мотивационные компоненты нашего поведения, мотивационно-потребностные. У нас ведь в основе нашего поведения во многом – работа центров биологических потребностей (центра голода...).
— Для этого особого мозга не нужно: размножаются и без мозгов ведь, и едят тоже без мозгов. Одноклеточные организмы очень хорошо размножаются и питаются тоже ничего.
— Ну, с этого эволюция начинается. Потом оказывается, что многоклеточным быть выгоднее, потому что вы большой и уже вы едите одноклеточных, а вас уже так просто не съешь. А как только появляется многоклеточность, нужно как-то это все собирать вместе, и возникает нервная система. И мы смотрим на очень незатейливых червей или кишечнополостных – и мы видим: нейроны уже есть, нейросети есть, работают похожие механизмы, те же самые синапсы, нейромедиаторы, рецепторы. И дальше на начальных уровнях эволюции в основном сети уже с врожденно заданными свойствами.
— С самого начала уже есть план, чертеж, где все написано: какая сетка будет, что она воспринимает. Это уже при рождении есть?
— Мы смотрим, как развивается ценорабдитес, этот замечательный червяк, у которого чуть больше тысячи клеток и 300 из них – нервные, и видим, что все собирается потрясающе одинаково от червяка к червяку.
— Но мы не такие. Я плохо знаю эмбриологию, но знаю, что есть два типа развития. Одно такое детерминированное, а у нас все развивается более-менее... ну, не как бог на душу положит, но по-разному.
— У нас все развивается достаточно стохастично в тех зонах, которые дальше учатся.

«У какой-нибудь акулы мозжечок не хуже нашего»
— Сама структура мозга похожа у всех нас?
— Да, еще как.
— Поэтому можно на него посмотреть (вот он в банке лежит). Но он состоит из огромного количества, десятков миллиардов нейронов.
— 90 миллиардов.
— Уж не знаю, кто посчитал. Интересно, как посчитали, кстати.
— Сюзана Херкулано-Хузел, замечательный бразильский ученый. Она придумала, как мозг делить на отдельные клетки и отличать нейроны от глиальных клеток. У нее великолепные работы, как раз филогенетические.
— До 90 миллиардов очень долго считать, знаете. Нужно очень быстро считать, чтобы за свою жизнь успеть.
— Да, но она и работает уже 20 лет. У нее есть прекрасные статьи: «Сравнение мозга сумчатых», «Сравнение мозга попугаев» или, например, «Мозг человека, слона и кита». Ну-ка, давайте поглядим.
— Клетки у человека в мозгу, когда он рождается, одинаково относительно друг друга лежат?
— Если мы говорим о более древних структурах, с врожденно заданными функциями, – там степень детерминированности очень высокая. И какой-нибудь дыхательный центр или центр голода, – там и нейронов мало, и находятся они, судя по всему, на неких достаточно жестких позициях.
— Это в случае развития человека закладывается на каких-то самых ранних стадиях. Мы же сначала...
— Вы сейчас затрагиваете одну из самых таинственных областей нейробиологии – как, собственно, формируется сеть. Потому что мало того, что все нейроны должны встать на свои места, по крайней мере в тех зонах, которые будут выполнять врожденно заданную функцию, они же еще отростки должны выпустить так, чтобы ребенок родился, и у него, например, работал какой-нибудь сосательный рефлекс. Прикоснулись к губам – и пошли сосательные движения, и слюна выделяется, и все такое прочее.
— А бывают детки без такого рефлекса?
— Чего только не бывает.
— Бывает, да? То есть это же для вас прекрасный объект изучения, наверное?
— Фокус в том, что эволюция эти механизмы отлаживала сотни миллионов лет. И поэтому все, что работало прямо неудачно, уже давно отсеяно. И есть такие блоки в мозге, которые практически не ломаются и не дают сбоев, потому что если сбой, то тогда это нежизнеспособный вариант. Мы обычно в этом смысле сравниваем мозжечок и кору больших полушарий. И кора мозжечка – она про двигательные навыки, а большие полушария – это скорее сенсорная такая, сенсорно-эмоциональная ассоциация, в том числе работа со словами. Так вот, двигательные навыки – без них вообще никак. Поэтому у какой-нибудь акулы мозжечок не хуже нашего. В детстве мне, когда хотели обидеть (или я хотел обидеть), говорили, помните, про «извилин маловато». А вот извилины, они будут как отпечатки пальцев. Вот, например, у новорожденных это уникальная, им только присущая вещь? Это уже говорило бы о том, что мозги разные с самого начала, да?
— Самые крупные извилины одинаковые. А чем мельче, тем, собственно, борозды извилины уникальнее, и действительно получается уникальный отпечаток. В какой-то момент...
— А если маловато извилин, это правда плохо, да?
— Да, потому что наша кора больших полушарий – это же поверхностные нейроны. И чем больше поверхность, тем выше вычислительные ресурсы.
— То есть складчатость нужна просто для того, чтобы вложить в эту голову то, что туда, вообще говоря, не помещается, да?
— Так же, как складки в митохондриях, да? Зачем вам кристы? Посадить больше ферментов, чтобы шло окислительное фосфорилирование. Вообще очень часто идея складчатости природой используется.
— Но складчатость не развивается как таковая? Вот все-таки если ты рождаешься, когда мы рождаемся, мы наивны в некотором смысле, да? Я не знаю, есть ли там уже какие-то связи – или все связи заложены, и их нужно только активировать опытом жизни? Или опыт жизни закладывает эти связи-извилины?
— Если мы говорим про человека, то в момент рождения такая макроанатомия уже стоит. То есть все извилины и борозды на месте. Значит, очень серьезный вклад генетический. А вот само формирование сетки, особенно в новой коре, которая у нас, собственно, основная обучающаяся зона, происходит в течение первых двух-трех лет очень интенсивно. И поэтому, собственно, те, кто занимаются онтогенезом...
— Формирование сетки – установление связей как некой жесткой структуры, когда нейрон вот этот соединяется вот с этим, а не с другим. Это имеется в виду?
— Да, да. Сетка – это значит, нейроны выпускают отростки и формируют контакты с какими-то... близлежащими, а иногда весьма удаленными нейронами.
— Это такие копошащиеся... набор этих аксонов, которые растут куда-то.
— Аксонов, дендритов, да, которые растут.
— И пытаются найти друг друга. Это реально так происходит?
— Да. Это происходит тогда, когда ребенок...
— Это не тараканы в голове, это нейроны там вот как-то шепчутся, ползут с дендритами.
— Нет.
— Это у ребенка происходит именно.
— Скорее всего, нет. Тараканы в голове – это все-таки уже импульсы, которые бегают и забегают куда-то не туда. А вот прорастание отростков мы наблюдаем у маленького ребенка. И, например, наблюдаем тогда, когда была травма, и идет восстановление.

«Вороны губы не красят, а шимпанзе красят, потому что видели, как это делают женщины»
— Это несмотря на существование такой истины, что якобы нервные клетки не восстанавливаются. Реально там что-то происходит, да?
— Если сам нейрон погиб, ему, как правило, нет никакой замены. За исключением обонятельных зон и гиппокампа – зоны кратковременной памяти (но это прямо отдельная история). А так обычно нейрон гибнет, и все. Но соседние нейроны могут выпустить отростки и «заштопать» дырку. И именно так идет восстановление. Ну, например, после инсульта.
— Фактически получается инструмент или орган, который воспринимает внешние воздействия каким-то образом и становится таким, каким его делают внешние воздействия.
— Так все обучение...
— Возможностей может быть масса. Понятное дело, что плохой образ жизни может сказаться на чем-то, и вы станете плохим человеком. Вы можете употреблять не те слова...
— И совершать не те действия.
— И потом совершать не те действия. Это как-то очень странно выглядит.
— Это и есть память.
— И полностью убирает какую-то свободу воли, да? То есть вы можете просто слышать что-то снаружи и потом становиться таковым. Потому что у вас просто создалась уже жесткая структура в голове, которая не позволяет вам стать другим.
— Это если ваша...
— Помните это самое? «Это не я! Это школа, семья, воспитание. Вот почему. А я-то здесь ни при чем совершенно».
— Кстати, это очень серьезная юридическая проблема. Потому что – кто виноват? Мой дядя?
— Если у меня мозг такой, у меня можно, наверное, только отсоединить мозг, и все.
— Здесь мы уже подходим к проблемам скорее философским и очень психологическим. Но фокус в том, что у нас вот там, в этой самой модели мира информационно-речевой, есть еще, судя по всему, наша модель самого себя. И из этого представления о самом себе возникает способность генерировать поведение, подчиняясь не внешним стимулам, а каким-то своим глобальным планам.
— Это душа? Это то, что называют душой? Считается, есть какой-то грандиозный разрыв между животными и человеком. И душа – это способ... Человек может посмотреть на себя.
— Вы знаете, душа – это уж совсем ненаучный термин.
— Но она же должна где-то быть. Подождите. Вот «я», которое мы о себе... Наше представление о себе, оно же где-то зиждется, оно у нас есть и тоже на материальном носителе записано.
— На тех же самых нейросетях, в той же самой зоне, ассоциативной теменной коре. Там есть не только картина мира, но и наша картина и представление о других людях и о самом себе. И там некие принципы...
— А у зверей есть какой-то предел, когда «я» исчезает?
— В зоопсихологии придуманы тесты на самоосознание. Один из них – это зеркало. Известная история про слонов. Долгое время считалось, что они не узнают себя в зеркале. А потом, когда взяли все-таки большое зеркало, оказалось, что очень даже узнают. А у человекообразных обезьян это прям запросто. Что делают зоопсихологи? Шимпанзе спит, ей тихонечко приклеивают на лоб бумажку. Дальше шимпанзе встала, потянулась, посмотрела на себя в зеркало: «Боже мой, что это у меня?» – и убирает. А самки шимпанзе берут губную помаду и красят губы. И, кстати, вороны так же действуют. И, похоже, так делают даже общественные насекомые.
— Именно губы?
— Нет, вороны губы не красят, а шимпанзе красят губы, потому что видели, как это делают женщины.
— Красиво же.
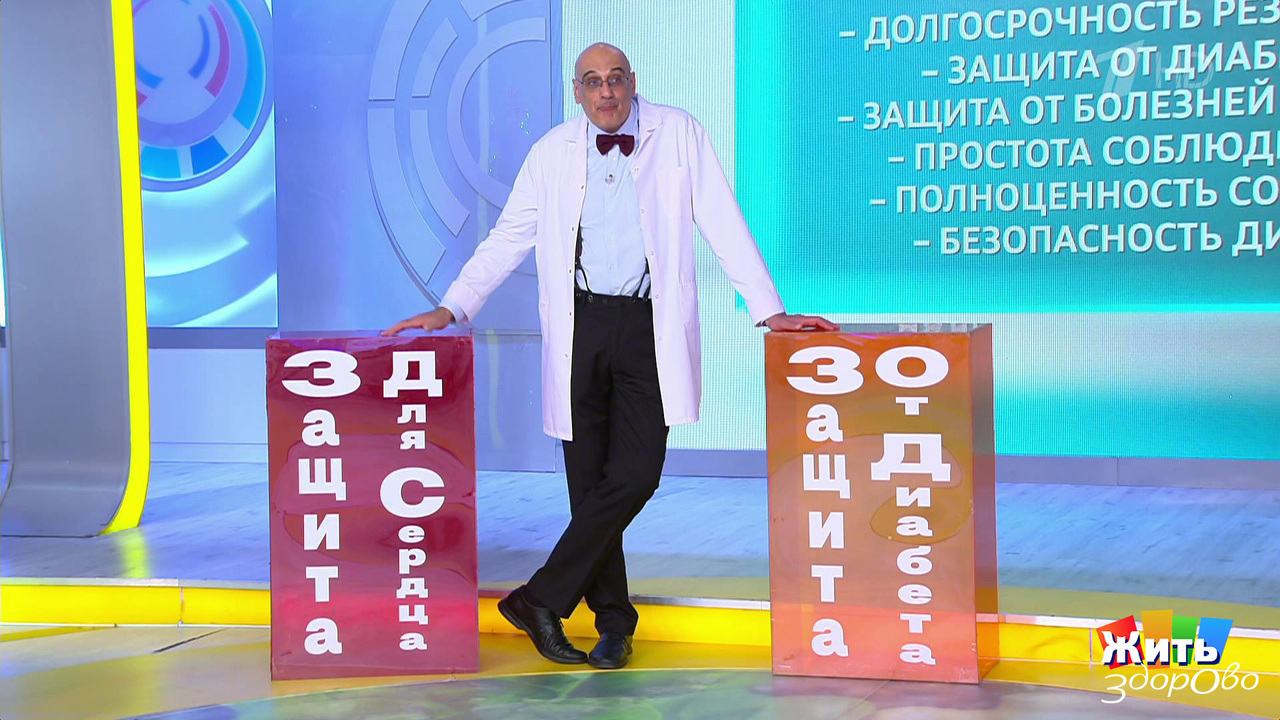
«Каждый сотый человек – шизофреник. Это в каком-то смысле плата за скачкообразную эволюцию»
— Есть же целые серии потрясающих экспериментов, когда выращивали «говорящих» обезьян. Это в 50-е годы началось. Вы берете обезьяньего детеныша и воспитываете его прямо как человеческого. Это либо шимпанзе были маленькие, либо гориллы. И называете все словами, и показываете еще языком жестов, чтобы обезьяна усвоила этот язык. Потому что вокализацию (сказать словами) она не сможет: голосовые связки не работают. Но если сопрягать стимулы и язык жестов, то оказывается, что 100 слов в год обезьяны выучивают.
— Это ключевое слово – сопряжение. Можно еще, как у Павлова, током давать или прочим. Наверное, можно и заставить.
— Павлов не бил животных током.
— Хорошо, и собаки у него все были... Памятник собаке же поставили.
— Да, да. Это отдельная история. Но с обезьянами там смотрите что. Если потом такой шимпанзе давать, например, карточки, где фотографии людей, ее собственные и других шимпанзе, и она раскладывает это в две кучки, она себя кладет к людям, то есть она, проживая в человеческом обществе, считает себя тоже человеком, а, значит, этих самых...
— Это все, правда, так прекрасно. Но я когда-то читал, что очень многие эти исследования не вполне правильные, потому что человек, который живет со зверенышем, в него влюбляется. Как и дОлжно, как мы любим своих домашних питомцев. И мы наделяем их свойствами, которых на самом деле там нет. И были вот эти – и с Гуддол, и со многими другими, потом была какая-то критика, которая говорила, что на самом-то деле все не так.
— Антропоморфизм страдает, да.
— И это страшный грех с научной точки зрения.
— На самом деле те эксперименты, про которые я рассказывал, действительно встретили подобную критику, и придумали другой метод, когда обезьяна почти не взаимодействует с человеком, но взаимодействует с клавиатурой. И вместо языка жестов на такой большой клавиатуре, типа китайских иероглифов, нужно просто нажимать на правильную кнопку.
— Это как в гостинице вызывать room service, чтобы принесли блюдо.
— Да, но там сотни этих кнопок, и, допустим, красный кружочек – это «банан», а синий ромбик – это «смеяться» или еще что-то. И оказалось, что скорость примерно такая же. Даже язык этот, «йеркиш» его назвали, в честь центра имени Йеркса в Соединенных Штатах, где эти эксперименты проводятся. То есть там работа идет через клавиатуру. Поэтому, собственно, мы видим эту коммуникацию. Мы видим, как самка шимпанзе сама учит детеныша этому языку.
— И его поддерживает. То есть возникает субкультура говорящих... ну, не говорящих, а жестикулирующих обезьян.
— Да, да. И получается, там...
— А почему же это не развилось? Ведь все-таки в диких... Мы же все эволюционисты, ведь ничего не имеет смысла в биологии, кроме как в свете эволюции. Казалось бы, общаться друг с другом с точки зрения выживания в Африке очень полезно. Много чего полезного можно сказать своему соседу или родственнику. И казалось бы, оно должно существовать.
— А там существует коммуникация.
— У них должна быть тогда культура. Почему они не люди? Почему они тогда не двигаются? Ведь они же не наши предки. У нас с ними общий предок. Но почему-то они стали обезьянами, а мы стали людьми.
— Они не вытянули тот набор мутаций, который достался нашему биологическому виду. Ведь все-таки эволюция – это казино. Выпала вам мутация, и ваш мозг подскочил с 400 граммов сначала до 800, а потом до 1,3 кг. И получи. Но это скачкообразное увеличение объема мозга человека, судя по всему, имеет и негативные стороны. И считается, что высокая частота шизофрении (каждый сотый человек – шизофреник) – это в каком-то смысле плата за вот такую скачкообразную эволюцию.
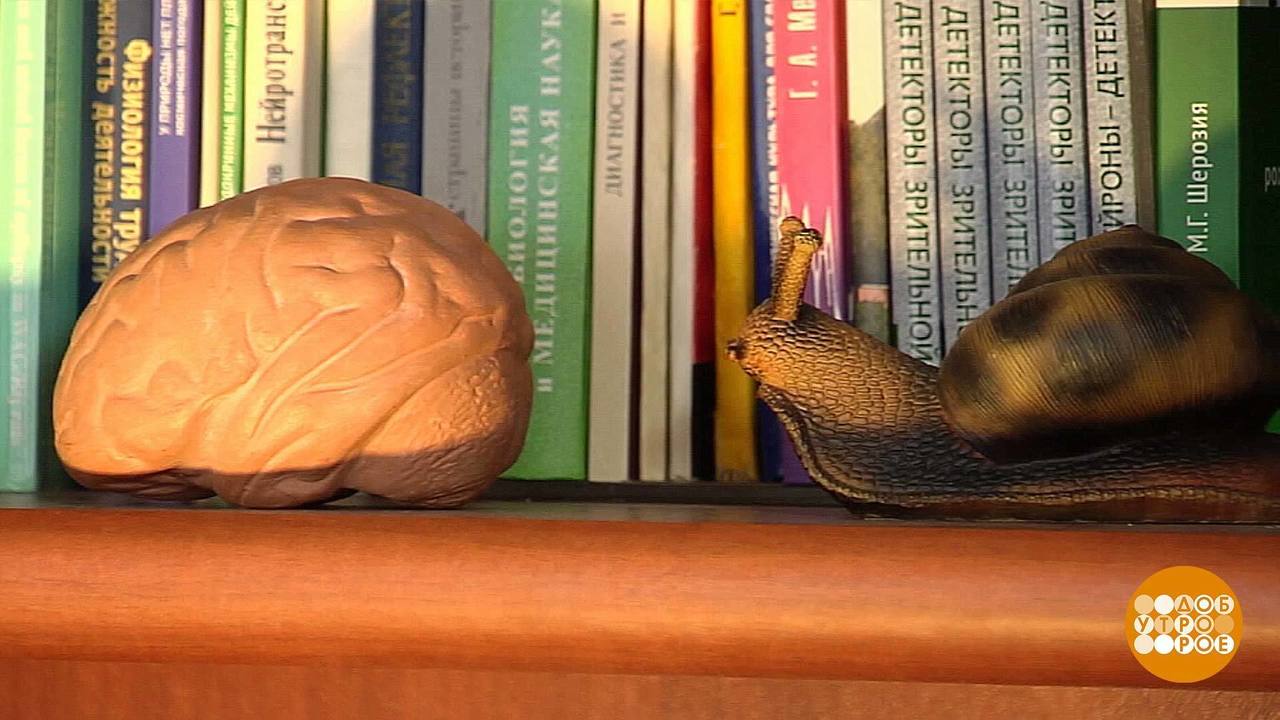
«Сейчас нашу долговременную память сравнивают не просто с библиотекой. Нет, каждые пару лет приходят такие переписчики, идет эта перезапись и постепенное сокращение памяти»
— Почему мы спим? Ведь мозг явно работает по-другому. Но, с другой стороны, он, безусловно, работает. Как увидишь какой-нибудь кошмар, думаешь: хоть бы он не работал.
— Со сном история оказалась очень сложная и, как всегда, не до конца известная. Но там ведь два состояния. Есть так называемый сон-отдых, когда на электроэнцефалограмме идут медленные волны. И парадоксальный сон, когда на электроэнцефалограмме идут волны, как будто человек активно что-то делает.
— Мы же видим образы, мы все видим сны, которые мы можем потом рассказать, мы там жили фактически, да? Хотя это не реальные события.
— В тот момент, когда идет парадоксальный сон, гораздо выше вероятность сновидений. И получается, что в этот момент мозг, отделившийся от сенсорных сигналов, во-первых, перелопачивает информацию с точки зрения памяти, запоминания, забывания.
— То, что я видел вчера или когда-то, образы какие-то.
— В частности, идет перезапись из кратковременной памяти в долговременную. Поэтому, действительно, в сны часто вплетается предыдущий день. Кстати, показано, что чем активнее вы прожили день предыдущий, тем больше длительность парадоксального сна.
— И кто-то у меня в голове сидит и решает: «Это я забуду».
— Наша память, судя по всему, вовсе не устойчивая констелляция, совокупность нервных клеток, а система, которая постоянно внутри себя перезаписывает. То есть сигналы пробегают. Если они долго не пробегают, мы этот синапс убираем. То есть сейчас нашу долговременную память сравнивают не просто с библиотекой, когда записали что-то на 200 страниц, поставили на полку, и это там стоит. Нет, каждые пару лет приходят такие переписчики, идет эта перезапись и постепенное сокращение памяти. И, собственно, в итоге, если спросить человека, что было в отпуске 10 лет назад, он с трудом вспомнит, что было, и, типа: «Ну, кажется, было хорошо».
— А это потому, что ограниченное хранилище? Можно же, наверное, работать и стараться запоминать. Какие-нибудь авторы – Толстой, кто угодно, – очевидно, обладают огромным запасом образов, картин, которые, наверное, связаны с их личной жизнью, которые вынимают их откуда-то.
— Так вы с этим и работаете. Если вы каждый день...
— То есть чтобы иметь хорошую память, нужно пытаться запоминать все время как можно больше всего.
— И воспроизводить без воспроизведения...
— То есть нужно вспоминать.
— Да, но без нового вброса активации в эту сетку она постепенно как бы будет растворяться. То есть все меньше и меньше уровень возбуждения в этой сети, и вам вспомнить, что такое апельсин, легко, а вспомнить что-то, что вы учили в студенчестве (и вроде в зачетке стоит пятерка), уже сложнее, а что-то совсем не вспоминается, и как бы...
— А вот «Евгений Онегин», например? Его, наверное, можно почитать, можно насладиться, можно выучить. И потом можно его воспроизводить, если будет тот, кто захочет слушать. Но я при этом научусь только читать «Евгения Онегина» или вообще моя память станет лучше? Я только эту сетку стимулирую? Или это в принципе хорошо? В школе же заставляют учить стихи.
— Поскольку у нас за память отвечает сначала кратковременный блок, потом долговременный... А кратковременный – это гиппокамп. Оказалось, он здорово тренируется. И растет его объем, и растет способность...
— Физически в голове вырастает вот такая штука.
— Да. Как раз в гиппокампе возможен этот самый нейрогенез, то есть одна из зон, где нейроны продолжают делиться, усложнять сетку, и увеличивается в объеме этот самый гиппокамп. И если вы пошли по пути выучивания иностранных языков или сложных стихов... Но только сложных!
— Да.
— Ну, я обычно рассказываю, что меня «Евгений Онегин» не взял, а вот «Божественная комедия»...
— На итальянском.
— ...взяла. Нет, я на русском ее учил. На итальянском, наверное, было бы еще круче. Но в отличие от «Евгения Онегина», там более тяжелый текст, даже в переводе Лозинского. Там как начинает Данте своих врагов перечислять или богов античных.... И там прямо нагружается. И реально в какой-то момент гиппокамп – раз! – и становится более эффективным. Но на самом деле для меня, если говорить про лайфхаки, конечно, самое важное – воспроизводить то, что вы знаете.
— Тогда актеры самые умные должны быть. Я недавно читал воспоминания Тарковского. Он столько гадостей про них написал! Но актер как профессия – это запоминание огромного количества информации и ее воспроизведение. Это очень специфическое...
— Мне кажется, что доценты и профессора университетов находятся в еще более замечательном...
— Вы думаете, я говорю по пластинке?
— На самом деле мы-то должны не только эмоции к этому припрягать, но действительно держать в голове целостную картину иногда очень сложных событий.
— И учить, и воспроизводить ее для других, делать это регулярно.
— И это самое-самое замечательное, на мой взгляд, для памяти. Не только на вход, но и обязательно на выход. Повторное воспроизведение радикально улучшает психическую деятельность и даже работает как защита от болезни Альцгеймера и все такое прочее.

«Проблема в том, что в мозге ничего убивать нельзя. Ну, условно, что-то вроде Альцгеймера случается и с печенью, и с сухожилиями, и с другими тканями»
— А вот про Альцгеймера. В итоге все это все равно может портиться, да? Эта прекрасная система... Казалось бы, с возрастом все должно становиться только лучше. У нас больше опыта, больше возможности делиться им, воспроизводить его и так далее.
— Константин, мы же не заточены на бессмертие. Каждая конкретная особь должна быть смертной.
— Ну, пусть руки-ноги не работают, но умище-то вон какой стал.
— Но, к сожалению, во-первых, умище...
— Все же говорят, что старики мудрые. Они немощные, но есть восприятие их как мудрых людей, так ведь?
— Ну, они мало того что накопили опыт, они еще его правильно обобщили. То есть это...
— То есть их мозг стал лучше?
— Их модель мира стала лучше.
— А когда все-таки происходит порча? Ну, назовем деменцию в широком смысле порчей когнитивных функций мозга. Это от недоиспользования или перенапряжения? Или это генетика? Что вообще происходит?
— Как во многих подобных ситуациях, генетический вклад очень большой, 60-70% дает генетика.
— А что значит «вклад генетики» в данном случае?
— Самая простая ситуация – это когда, опять же, берут дизиготных, монозиготных близнецов... Такие работы, как известно, еще в конце XIX века начались. ...и, не вдаваясь в подробности, что это за гены, просто сравнивают.
— То есть у вас есть два генетически одинаковых человека, клона, два близнеца.
— Да, и один из них заболел.
— И вы сидите и ждете, кто из них первый сыграет в ящик и у кого будет Альцгеймер?
— Да. Если первый заболел... А близнецы всегда знают, кто из них первый родился. ...то будет ли такое же у второго? И контролем к ним служат так называемые дизиготные, то есть единоутробные близнецы. Казалось бы, это редкое событие, но в масштабах планеты это уже серьезно.
— И вы видите, что у монозиготных близнецов чаще... Если один заболел Альцгеймером, то и второй тоже будет?
— С очень большой вероятностью.
— И эти 60% возникают из сравнения вот этих пар.
— Есть замечательное уравнение Хольцингера, которое позволяет это рассчитать, и это было придумано больше ста лет тому назад. Но сейчас не так работают, сейчас берут и делают полногеномный анализ.
— Ну а если нет близнеца, что делают-то?
— Сейчас берут и делают полногеномный анализ людей, которые заболели Альцгеймером. Допустим, 5000 человек. И дальше – опа! — оказывается, что эти 400 генов отвечают... что их аллели коррелируют с возникновением болезни Альцгеймера.
— 400 генов – это очень много, у нас всего-то 20 000 генов. Что лечить, если, оказывается, и здесь чуть-чуть, и здесь чуть-чуть, и там чуть-чуть? Куда бечь?
— В этом и проблема. Казалось бы, есть простой вариант нейродегенерации – хорея Гентингтона (Хантингтона), где всего один ген. И там-то, казалось бы, вообще все должно быть просто.
— Лечение вы имеете в виду?
— Нет, там само происхождение. При хорее Хантингтона... Там один-единственный ген отвечает, и при этом еще доминантная аллель. Если вам достался этот вариант, то вы к 40 годам 100% заболеете этой патологией, которая по проявлениям очень похожа на болезнь Альцгеймера. Гораздо реже, к счастью, но очень похожа.
— И тоже есть амилоидные бляшки, все дела.
— Там не амилоидные бляшки, там внутри клеточное накопление, ну, наподобие тау-белков при Альцгеймере. И там, собственно, белок гентингтин, который исходно был детектирован как белок, который связан с этой патологией. А потом, естественно, стали искать, что он делает в нормальных клетках. Оказалось, что он отвечает за транспорт визикул, пузырьков разных молекул по микротрубочкам.
— Это по передаче сигналов получается, наверное, транспорт чего-то внутри клетки от нейронов к нейронам.
— Пока что очень непонятно, почему первые сбои идут именно на уровне стриатума, той зоны, которая отвечает за движение. А при хорее Гентингтона... Хорея – это подергивание рук. Пока что мы эту цепочку событий от отдельной молекулы к клеточным изменениям тотальным и дальше к изменениям на уровне нейросети и на уровне всего поведения, с огромным трудом прослеживаем.
— Поэтому мы не можем лечить, мы можем только смотреть, регистрировать изменения и советовать здоровый образ жизни.
— Это да, здоровый образ жизни – это всегда хорошо, потому что...
— Не навредит точно.
— Да. Это начинается с того, что у вас здоровые сосуды. На самом деле, половина деменции – вовсе не что-то вроде Альцгеймера.
— Хуже кровь идет в голову, да?
— Да. Все начинается с возникновения холестериновых бляшек и прочего. И это как бы тоже деменция, но тут совсем другие подходы.
— А при деменции мозга пораженные клетки, наверное, отличаются каким-то образом от здоровых? Вообще, иммунотерапия...
— И что, и вы убьете нейроны?
— Но вы хотите убивать только те, которые все равно уже не те.
— Это все равно очень плохой вариант. Как раз проблема в том, что в мозге ничего убивать нельзя. Ну, условно, что-то вроде Альцгеймера случается и с печенью, и с сухожилиями, и с другими тканями.
— «Старость» называется.
— Да, но если там внутри накопились дефектные белки, вы просто убиваете эту клетку, и соседняя клетка делится и замещает. Для мозга такое не подходит: каждый нейрон вставлен в свою сеть. Он связан информационной...
— А дублирования нет. Может, можно в детстве пытаться как бы создать две системы? Вы же говорите, что у нас куча всего, что не нужно. Две двигательные системы.
— Судя по всему, дублирование, конечно, есть, но оно выдерживает только до какого-то уровня появления дефектов. И та же самая болезнь Альцгеймера - она же не вдруг возникает, а постепенно-постепенно нарастают эти самые изменения.
— А две половинки тогда работают именно как половинки? Есть же классический случай, что у Канта половина мозга не работала, а он явно был шибко умный. Так говорят, по крайней мере. То есть у него вот это все отшибло.
— Ну, насчет Канта я не очень в курсе. Обычно в пример Владимира Ильича Ленина мы приводим, где тоже с половиной мозга был тотальный склероз и все такое.
— Но ведь там... Я так понимаю, что в случае деменций, с которыми сейчас встречаются многие люди, к сожалению, это не настолько массово... Это не половина мозга испортилась, а гораздо меньшее его количество.
— Начинается все с малых количеств, но дальше, когда вы смотрите, например, томограмму развитой болезни Альцгеймера, там повреждается даже не половина.
— Больше?
— Да, даже больше.
— То есть еще хорошо, что хоть что-то...
— Почти вся кора больших полушарий и базальные ганглии оказываются повреждены. И в конце концов и подкорковые зоны затрагиваются, и человек буквально рассыпается на уровне глобальных регуляций.
— Game over.
— Я что хотел сказать... Иногда, даже при нейродегенерациях, если повреждение очень четкое, узкое, мы можем с помощью медикаментов что-то делать. Это, например, болезнь Паркинсона. При паркинсонизме страдает определенный тип клеток. Это дофаминовые нейроны черной субстанции, которые задают наш двигательный тонус. Они начинают хуже вырабатывать дофамин, и от этого появляется паркинсоническая симптоматика: дрожание, ригидность. Вот из-за того...
— То есть можно добавить дофамин и пытаться таким образом...
— Вот в этом случае, когда очень узкое проявление патологии, определенный тип нейронов затронут, тогда это работает.
— Это прекрасно. Вот, наконец, что-то оптимистическое.
— Это не прекрасно, потому что наш дофамин не прекращает дегенерацию. Но у человека есть еще 10-15, а то и 20 лет для того, чтобы более-менее нормально жить.
— А там – хоть трава не расти. Мне кажется, все-таки это очень оптимистическая нота, на которой я хотел бы закончить. Дальше, я боюсь, будут только плохие новости.
— Нет, в случае Альцгеймера... Бывают такие варианты Альцгеймера, когда прежде всего затрагиваются ацетилхолиновые нейроны. И тогда помогают препараты, усиливающие деятельность ацетилхолиновой системы. Некоторое время. Эти препараты дегенерацию не останавливают, но все-таки...
— Потому что она внутриклеточная и движется сама собой.
— Иногда при Альцгеймера слишком силен поток возбуждения. Тогда помогают препараты... Есть такая молекула мемантин, которая снижает уровень возбуждения. Когда появляется такая симптоматика, врач пробует разные молекулы, и если получается, то они на несколько лет могут задержать развитие патологии. В случае паркинсонизма вначале дают так называемую Л-дофу – вещество-предшественник дофамина. Когда она перестает работать, используют агонисты дофамина – вещества, похожие на дофамин. Но у них уже начинаются побочные эффекты, потому что они усиливают агрессию, усиливают клептоманию. Ну, отдельная история.
— Клептомания, мне кажется, одна из основных наших программ.
— Ну, у нас есть программы собственности. «Это мое».
— Вот, это оно же и есть.
— Да, да, да. Они у нас сидят в амигдале, они хорошо изучаются. Конечно.
— Но все-таки новости скорее плохие, чем хорошие, или нет? Я не понял.
— Вы знаете, я, честно говоря, все жду от молекулярных биологов, что они что-нибудь измыслят. Вот мне лично кажется, что если мы сумеем создать какие-нибудь антисенс-РНК, которые бы влияли на возникновение тау-белков, или бета-амилоидов, или того же гентингтина, и сумеем нацелить эти РНК на определенные типы клеток, то, может быть, что-то и получится.
— Спасибо вам большое, Вячеслав.
— Спасибо, было очень интересно. Всяческих вам удач.
— Это был подкаст «Баден-Баден». Я его ведущий Константин Северинов. Мы говорили с профессором МГУ, доктором биологических наук Вячеславом Дубыниным о мозге – о самом главном.

